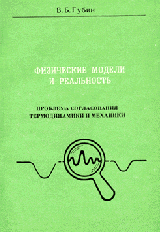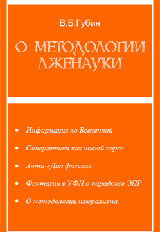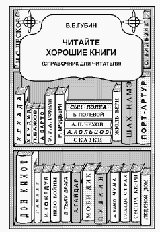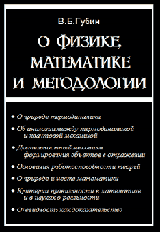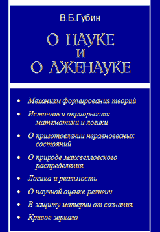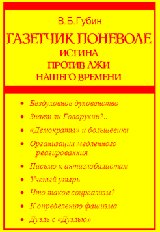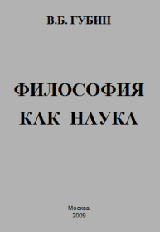|
Страница 13 из 21 II. 4. Тринадцатую главу «Динамическая Вселенная» Капра вновь начинает с пояснения: «Основная цель восточного мистицизма - достижение такого мировосприятия, при котором все явления воспринимаются как манифестации (проявления. - В.Г.) одной и той же высшей реальности.» (С. 166) Как говорится, не слабо! Вообще говоря, нельзя сказать, что нельзя довести себя до такого состояния, чтобы увидеть почти что угодно. В принципе можно представить мир на трех китах или себя в виде духа, порождающего всё на свете. А что видят они на самом деле и как проверяют правильность видения - об этом Капра не сообщает и, по всей видимости, не задумывается. «В этой реальности восточные мистики видят первосущность Вселенной, лежащую в основе всего многообразия наблюдаемых нами предметов и явлений. Индуисты называют ее «Брахман», буддисты «Дхармакайя» («Тело сущего») или «Татхата» («таковость») , а даосы - «Дао»; при этом все они утверждают, что эта реальность лежит за пределами интеллектуального восприятия... высшая сущность не может быть отделена от ее многообразных проявлений. В самом сердце его природы заложено стремление (вот и антропоморфизм. - В.Г.) постоянно воплощаться в мириадах возникающих, гибнущих и превращающихся друг в друга форм. В своем явленном аспекте космическое Целое динамично по своей природе.» (С. 166)
Во-первых, любопытно, как можно с уверенной определенностью и конкретностью говорить о чем-то, лежащем «за пределами интеллектуального восприятия». Во-вторых, непонятно, как можно в познавательном отношении пренебрегать неотделимыми от высшей сущности ее проявлениями, в числе которых должны, естественно, находиться и наши «иллюзии» - границы, образы и явления. Ведь выше их фактически называли фикцией, обманом, ложью. Но раз та сущность неотделима от своих проявлений, то вроде бы по ним тоже можно было бы ее изучать, может быть, неполно, но хотя бы частично? В-третьих, о характере динамичности Капра ничего не сообщает, поэтому о ней можно было бы и не говорить. Одним лишним неопределенным словом больше или меньше - какая разница? Есть ли в этой динамичности что-то устойчивое и закономерное? Вдруг она чисто вероятностная, как квантовая механика, да еще и с неограниченной областью возможных рализаций, когда вообще ничего нельзя предсказать и познание не имеет смысла? Можно ли ее с пользой изучать, куда ее применить помимо разрушительного смысла, что всё всё равно изменится и всё суета сует? Капра такими вопросами не задается. А напрасно. Он вообще пользуется изложениями восточных учений, предназначенными для широких масс, и не анализирует их фундаментальную подоплеку, по которой, вероятно, можно было бы как-то судить о надежности рекомендуемых мистических методов. Ведь «буддизм всегда имел два языка, один для ученых и другой для простых /людей/» ([12], стр. 134). И Капра явно пользуется изложениями для простых людей. Он как теоретик принимает и излагает всё это как чистую монету, помимо которой ничего нет. А простые люди всё же вынуждены жить в более или менее реальном мире, где есть внешний мир, познание, действия и результаты. И западные читатели Капры обычно принимают его изложение в своей сетке представлений о человеке, мире и познании. Интересно, как бы они удивились, если бы узнали, что с точки зрения теоретических взглядов основных течений буддизма человек представляет собой соединение элементов качеств (дхарм), а все его «иллюзии» о нем самом и о внешнем мире есть именно иллюзии, так что о познании и говорить-то становится проблематичным.
Разнообразие представлений многочисленных течений и сект индуизма, буддизма, даосизма и дзен-буддизма есть схоластическое порождение древних теоретиков, не обязательно самих практиковавших те медитации, но пытавшихся в недоразвитом мире, при отсутствии нормального критерия правильности построить логически стройную картину мира, рациональные зерна в которой обязаны своим происхождением отнюдь не медитациям, а реальным наблюдениям реальной жизни. И построили они схоластические и в общем несообразные концепции, нечто упрощенное из которых доверчиво принимают массы неподготовленных людей, не наученных критически и со знанием дела оценивать такие глобальные построения. Основательное и довольно ясное изложение весьма любопытных оснований буддизма и его разновидностей содержится в [12, 27]. Кстати, автор [12] академик Щербатской 80 лет назад писал: «Все чувственные данные суть субстанции в том смысле, что нет вещества, к которому бы они относились. Если мы говорим: «Земля имеет запах, и т.д.», то это лишь несоответствующее выражение; мы должны бы сказать: «Земля есть запах и т.д.», поскольку, кроме этих чувственных данных, нет абсолютно ничего, к чему было бы приложено это наименование... Нет души, отдельной от ощущений, идей, волевых актов и т.д. ... Можно лишь удивляться тому, как много времени понадобилось европейской науке для того, чтобы понять это учение, которое так ясно изложено в многочисленных местах буддийских писаний... Камнем преткновения всегда была предполагаемая теория переселения душ и ее ... противоречие с отрицанием души.» ([12], стр. 133-134)
Смерть существ есть распадение потоков дхарм, которые впоследствии могут соединиться в другие потоки без переселения душ. Так сказать, нет закона сохранения душ. Коротко говоря, волнение дхарм рождает страдание. Задача - остановить волнение или движение дхарм. Самоубийство не достигает этого. Буддизм учит методам достижения остановки в нирване, в частности - медитацией. Различные секты понимают этот предел несколько по-разному. Мы, конечно, должны иметь свое мнение по этому поводу. Хотя бы о реальности этой задачи даже при условии наличия дхарм. Во всяком случае, на этом фантастическом фоне советы Капры улучшить «западный подход» в науке с помощью «восточного» выглядят весьма невежественно.
В дальнейшем в этой главе описываются физические примеры движения, иногда перемежающиеся напоминанием, что индуизм, буддизм и т.п. учения также указывают на постоянное движение. По мнению Капры, мы должны впечатлиться картиной: «Шива, Космический Танцор, представляет собой наилучшее воплощение идеи динамической Вселенной.» (С. 168)
Примечательно, что Капра продолжает, подобно ряду физиков-энергетистов рубежа XIX и XX веков считать материю исчезающей. «На макроскопическом уровне понятие материальной субстанции вполне уместно в качестве упрощения реального положения дел, но на уровне атома оно лишено всякого смысла. Атомы состоят из частиц, в которых нет никаких признаков материальной субстанции. При наблюдении за ними мы не находим никаких доказательств того, что перед нами - нечто вещественное., напротив, все говорит о том, что мы имеем дело с динамическими паттернами, постоянно преобразующимися и видоизменяющимися - с непрекращающимся танцем энергии.» (С. 180) Дался ему этот танец! Он не понимает материю не только как философ, но и как нормальный физик. Вот он благожелательно цитирует: «В то время как европейская философия склонна находить реальность в веществе, - пишет Джозеф Нидем, - китайские философы склонны находить ее во взаимосвязях.» (С. 181) Во взаимосвязях чего?!
|